Совершенно закономерный итог внутренней политики, учёные в Этой Стране не нужны, а здесь нужны быдло-патриотические шавки, православные мракобесы и тупое мычащее скотонаселение регулярно голосующее за Пахана.
Особый путь, да.
>Россия выпадает из глобальной науки
А хрюкаина вообще была в науке?
Хохлодебил уже с утра на боевом посту.
>Чотамухохлов
Манёвр не засчитан, кремлядь.
Похуй что дома, зато у соседа ещё хуже.
Логично, если в "майских указах" Пыня обязал сократить зарплаты научным сотрудникам. Я имею в виду полные секретные версии майских указов, а не рекламные буклеты.
Кремлеботы, как же ущербно вы смотритесь.
Мгновенный подрыв анальнодебилов.
Кроме тебя дебила тут других нет, ватное чмо.
Пиздец ты клоун.
>при этом доля возвращающихся в Россию едва достигает 30%
На то они и люди науки, мозги то есть. Это как бомжу дать квартиру и деньги, а потом гнобить его, из-за того, что он отказывается обратно идти на улицу.
На то они и люди науки, мозги то есть. Это как бомжу дать квартиру и деньги, а потом гнобить его, из-за того, что он отказывается обратно идти на улицу.
Ты тупое быдло.
Пфф, зачем нам какая то наука когда у нас есть скрепы и религия? Еще пару десятков церквей построим и мечетей столько же и тогда заживем!
>пройдя сложный отбор
Представляю как у Европейцев бомбит, когда они не могут поступить из-за русских в свои же вузы.
Как-то так
https://youtu.be/aaHwzXJEcUQ
https://youtu.be/aaHwzXJEcUQ
Ничего особого в этом пути нет. Обычная дорога для страны, чьё руководство в определённый момент решило, что сосать иностранный хуй лучше, чем сохранить и развивать то наследие, которое создали предыдущие поколения ценой огромных жертв и трудов.
Охуеть сколько радостных либерашек набежало на этот тред. НУ НАКОНЕЦ-ТО ПОЯВИЛСЯ ХОТЬ КАКОЙ-ТО ПОВОД ОБОСРАТЬ РОССИЮ И НЕ ПРИБЕГАТЬ К МЕТОДИЧКАМ И ЖЁЛТОЙ ПРЕССЕ! УРААА! СЛАВА НАВАЛЬНОМУ
>Однако ученая степень остается столь важным «аксессуаром» современного российского управленца, что одна из таких «жемчужин» есть даже в «коллекции» президента России В.Путина.
Еще одно доказательство, что нынешняя РФ и сам В.В.Пыня - хуевая пародия на португальское Estado Novo и профессора Антониу ди Салазара
Решил сосать хуй еще горбачев, остальные продолжают. Начинаешь верить, что все они агенты сша.
> Time.mp4
Алё, коммик, разуй глаза. Тебе из телевизора сейчас абсолютно такую же лубочную картинку льют: с бравыми солдатиками, образцовыми школами, масштабными стройками и фестивалями фейерверков.
Но совок слишком идеализировать не стоит, за красивыми картинками там была равномерная беднота, дефицит.
Россия сама себя обсирает каждый день новое дно.
Учёные вообще каким-то говном последнее время занимаются.
Рак каждую неделю побеждают, а ожирение и диабет - каждый день. Потом звёзды эти. Сидят выдумывают охуительные истории о том что там в чёрных дырах происходит. Книги блять про это исписали.
Не нужны они, короче. Сейчас наука скорее фэйк.
Рак каждую неделю побеждают, а ожирение и диабет - каждый день. Потом звёзды эти. Сидят выдумывают охуительные истории о том что там в чёрных дырах происходит. Книги блять про это исписали.
Не нужны они, короче. Сейчас наука скорее фэйк.
Наука должна идти в паре со святой инквизицией. Тогла в науке останутся только бессеребренники, фанаты.
Так просто науки нет в РФ, уже достаточно давно.
Чтобы ты понимал, сейчас в РФ официально "теология" признана "наукой", и несколько действующих членов-корреспондентов РАН это мракобесы уровня гомеопатов.
Европейцу, в отличии от ваньки, не надо будет топтать плац и получать по башке стулом в армии если он не пойдет в ВУЗ, он может высшее образование хоть в 30 лет получить.
Пиздуй в Северную Корею, там тебе будет норм.
Чтобы твой айфон показывал больше котиков в секунду нужны фундаментальные исследования. Тут без коллайдеров и телескопов ну никак.
Распад начинается там, где прекращается созидательная инициатива.
Смысл существования СССР был в создании нового мира без государственных границ, классовых различий, нищеты, войн и угнетения.
Стоило остановить коммунистическое строительство - немедленно начался откат назад, реставрация капитализма.
В Раше скоро введут церковные суды и органы поповской цензуры, всё к этому идёт, там и до Инквизиции недалеко.
Не, тож хуйня. Тогда вместо дела будут вокруг очередной статуи культы служить. Не надо такого.
Нужен капитализм вместо науки. Капитализм - сразу ставит ЦЕЛЬ практическую. Скажем, болят у человека зубы, капитал ставит сам себе цель помочь человеку за его деньги. Вот это дело. Практическая польза.
А наука это хуйня из под коня, мучить мышей и писать ебанутые статейки.
Так весь этот коммунизм был искусственным, насильственным экспериментом в отдельно взятой стране.
Обожаю когда школьники начинают рассказывать как плохо мне жилось фсафке.
Вот кстати хорошая мысль - инвестор просто так деньги давать не будет - он хочет увидеть конкретные результаты - именно так это работает.
Я от бабули норм выслушал. Не хочу воду с колонки таскать и на печке греть.
Комми-пердун ностальгируешь об очередях, старой обуви и цензуре?
Что-то в этом духе рассказывали сторонники аристократии глядя из-за бугра на Великую Французскую Революцию.
Вот кстати, обязательная военка в рашке ущербна, выбивает мозги полностью, делает человека быдлом.
>Тут без коллайдеров и телескопов ну никак.
А как именно помогают телескопы и коллайдеры переходить на новый техпроцесс ты конечно не расскажешь. Марсоход ещё добавь, тоже наверное помогает.
йеп. в этом то весь и прикол.
по марксу - коммунизм это естестенная форма общественного устройства, которая следует после капитализма, когда производительность труда человека настолько высока, что простейшие блага типа простой еды и лекарств практически ничего не стоят и их можно раздавать бесплатно.
но шизики переиначили все и обосрались жиденько.
самое забавное, что реальный работающий коммунизм гораздо быстрее появится на западе чем в китае или там РФ, когда появится сильный ИИ и нормальные автономные андроиды.
4-5 лет назад, еще до событий на Украине и Крымнаша вроде, спорил с одним ватаном на тему проблем в русской науке. Приводил примерно те же аргументы, про утечку мозгов, низкое качество образования, низкий индекс цитирования и отсутствие признания наших работ зарубежом.
На что он стал кричать: ВРЕТИ, индекс цитирования хуйня, Нобелевки нашим не дают потому что все проплачено и т.д.
Я спросил: а что наши разработали, какие научные открытия совершили в последнее время? На что он ляпнул: ну у нас все засекречено, чтоб американцы не украли
Ты живёшь в искусственном доме, пьёшь искусственно очищенную воду, идёшь на искусственно созданную работу, по искуственно созданной дороге, возможно даже на искусственной машине.
Просто в один прекрасный момент один дядька посмотрел на хранцузскую революцию и решил, что такое можно сдлеать самостоятельно и сознательно. А чтобы результаты не перехватили дядьки из высоких кабинетов — выпилить частную собственность как таковую.
Англичане первые начали и довольно неплохо. Вообще развитие в том числе науки пережает Россию на столетия, достаточно вспомнить когда появился Кэмбридж и Оксфорд и когда МГУ.
Я слукавил, когда сказал "представляю". Я прекрасно знаю как бомбит. А армия вообще не проблема же. Если ты уехал зарубеж, тебя не трогают. Военник копейки стоит, да даже если денег нет, откосить через юриста еще дешевле.
Ты лучше скажи откуда ты столько про европейцев знаешь? Может в Гермашке получаешь степень? Или живешь в Голландии?
нету на харкаче комми-пердунов, потому что по совку ностальгируют только те, кто совсем старый, овер 70+ лет, нормальные люди жившие при совке и не скатившиеся в маразм прекрасно помнят как "прекрасно" было жить в стране вечного дефицита.
это или школьник или лахтодыра.
Но Маркс в итоге сам признал что это было ошибкой и не стал публиковать Капитал, а Энгельс уже за его это сделал. Реальный коммунизм появится, когда производительные силы будут настолько эффективны, что работать почти не придется, и будет чистое творчество направленное на самореализацию за престиж. А пока люди херачат за деньги ни о каком коммунизе и речи быть не может.
Скажи спасибо журналистам, благодаря которым рак побеждается каждый день.
А вот тут ты передергиваешь, как обычно, в свойственной тебе манере. По твоим словам тогда нет ничего естественного в мире сейчас, но ведь человек это тоже часть природы, смекаешь? Поэтому "естественность" нужно понимать как самоорганизацию. А плановая экономика нарушает естественный ход вещей и процессы в нормальной экономике замещая их жуткими непотребствами - поэтому в ССССССССР была колоссальная диспропорция в развитии: ракеты на отлично, а обувь, одежду делать нормально не научились.
В российской науке только они и остались.
> Реальный коммунизм появится, когда производительные силы будут настолько эффективны, что работать почти не придется, и будет чистое творчество направленное на самореализацию за престиж.
Я это и сказал.
Ну собственно мы уже движемся в этом направлении, можешь себе представить что 100 лет назад кто-то платил бы ебучие миллионы пьюдипаю чтобы он снимал то говно, которое он снимает? Год от года производительность растет. Еще лет через 10 все европейские\американские работяги будут работать в экзоскелетах с HUD и дополненной реальностью.
>потому что по совку ностальгируют только те, кто совсем старый, овер 70+ лет, нормальные люди жившие при совке и не скатившиеся в маразм прекрасно помнят как "прекрасно" было жить в стране вечного дефицита
Знаю людей в возрасте 45-60 лет, ностальгирующих по СССР.
Но насчет школоты ты верно сказал, тут проблема в том, что они насмотрятся всяких Гоблинов, наслушаются бабушкиных историй про Великую страну СССР и начинают засирать весь интернет.
Как пример можно еще Евгения Баженова привести. Я узнал о нем очень давно, еще в 11 году, когда у него еще было около 15к подписчиков, и поначалу он мне нравился. Но последние года два околокоммунистическая пропаганда так и витает вокруг его роликов.
Это не правда, тут много совков, я подозреваю, что они размножаюся почкованием головного мозга. Да и совки - часто это патриотические дурачки, жертвы пропаганды.
Наверное неонацисты по такой же логике формируются потому что не видили настоящих ужасов нацисткой Германии, так же и неосовки - не представляют кошмаров тоталитарного советсткого строя.
Настоящая проблема будет когда длина человеческой жизни сильно увеличится.
>Рак каждую неделю побеждают, а ожирение и диабет - каждый день.
Нахуй иди, мразь.
Сейчас диабет, благодаря инсулиновым помпам закрытого цикла по сути сведен на нет. Но в рашке таких помп конечно нет и не будет.
По сути это искусственая поджелудочная железа, которая снимает показания сахара в крови с CGM и увеличивает или снижает подачу инсулина.
На таких помпах 1) очень существенно снижается количество последствий диабета, по сути ты не доживешь до того момента, когда они проявятся из-за возраста 2) существенно улучшается качество жизни, тебе не приходится париться из-за того, что у тебя будет высокий или низкий сахар, не приходится парится что ты сожрал бутер и забыл подколоть, до определенного пределеа помпа компенсирует все колебания сама.
За последние 20 лет технологии терапии диабета ушли вперед очень хорошо. По сути сейчас с хронического заболевания, от которого ты обязательно сдохнеш попутно потеряв зрение, почки и ноги лет через 20, превратилось в хроническое заболевание уровня аллергии - если быть тупым можно сдохнуть, но это очень сложно.
>Я от бабули норм выслушал
Ты от бабки слышал, а я сам видел что было до и что стало после.
Итак что было:
-население 7901
-шесть предприятий
-три школы
-пионерлагерь
-турбаза на горном озере
-больница
Что стало:
-город разжалован в село
-население 3134
-ВСЕ предприятия распилены
-двух школ нет
-турбазы с пионерлагерем нет
-больница готовится схлопнуться
А в начале девяностых внезапно встал вопрос где взять пожрать при отсутствии денег и возможности их заработать, что казалось каким-то диким сюром на фоне жизни до 1990.
>Ученый изнасиловал журналиста
Классика.
Теперь там полная швабодка и демократия
Тут не только техпроцесс. Который очевидно не "ща маску поменьше нарисуем и заебос будет", а требует детальной запары в квантовой оптике. Но и спутники для навигации и телекома. И новые физические эффекты для уменьшения тех же афу, экранов, аккумуляторов, гироскопов, прочих считаывателей.
Выглядит как подобранный фейк
В ближайшие десятилетия этого точно не будет, так как не решен вопрос что делать с мозгом и всей нервной системой.
Собственно нейроны не способны к делению в отличие от клеток-сателлитов, и потому если случился инсульт - то эти клетки уже не вернуть, как и функции иннервируемых ими органов.
Решать проблему надо и на уровне микрососудов, так как в противном случае дегенеративные процессы по всей ЦНС - старческое слабоумие.
В итоге, если эти проблемы не решить, то человек сможет жить до 150, но будет на уровне слабоумного полупарализованного овоща. Оно ему надо?
Это не агентство. Это простая психология раба, неспособного самостоятельно и грамотно распоряжаться своей свободой и имеющимися ресурсами.
Обожаю когда школьники начинают рассказывать как хорошо мне жилось фсафке.
Спасибо за инфу, анон.
Ой да ладно. У нас тоже навалом мёртвых сёл с добротными каменными домами, стоявших раньше на торговом пути. Мир меняется и многие узлы на ткани цивилизации с годами расплетаются.
Я рассчитываю дожить до трансдукции в электронный носитель, или замена старых нейронов новыми.
test
Я кагбэ успел немного пожить в этом "фейке".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
Чем моложе современный школьник, тем хуже ему жилось всафке.
>градообразующее предприятие
Ну охуеть совки нагородили нежизнеспособных конструкций, и потом весь мир виноват в том, что они без ебучих вливаний извне разваливаются.
>стоявших раньше на торговом пути
Вся страна была какой-то сплошной торговый путь
Совок не планировал нормальную жизнь людей, помнится в одном таком городке был адский трэш: плохая вода, привоз еды на неделю, убогая инфраструктура, еще и климат отстойный. В союзе хорошо жилось только в Москве и в Лининграде. Стоило немного отъехать и всё, пустощь.
Как раз наоборот, сейчас немало 15-летних школьников, восхваляющих СССР.
Срался недавно в интернете с одним, так забавно, он утверждал, что репрессий не было, понятие Красный террор придумали либералы, а Советский Союз всегда дружил с Китаем.
В ссср хотя бы ракеты на отлично, в пидорахии проебали и авиастроение, ракеты, и космос, и оборонку, при этом ботинки со штанами делать не научились.
Депрессивные моногорода с ненужными жителями.
Пора звать Рюрика.
Я про 17-18 век говорю, комминяша.
Почему даже тупорезы брежнев и хрущев не имели "психологии раба?
>в одном таком городке
В одном городке всего?
Представь себе даже когда город был уже под 40000 жителей в нем был всего один (один сука!) хлебный магазин, можешь себе представить какая там была очередь? И так каждый день.
>немало
Немало, мало, много - понятия относительные.
Что за город?
В каком году?
>хрущёв не имел психологии раба
>подрыв государственной идеологии на ХХ-м съезде.
Ага.
Брежнев вообще никакой психологии не имел.лол.
Ну знаешь, я опросы среди школьников не проводил, но подобную школоту периодически наблюдаю в интернете, в том числе и на Сосаче.
>нагородили нежизнеспособных конструкций
70 лет работали. В 90-х резко стали "нежизнеспособными"
Как говорится, "каждый раб мечтает стать господином". Ну вот товарищи Хрущев и Брежнев как раз господами и стали, и потому психологию резко сменили. А были бы они простыми рабочими, мыслили совершенно по другому.
В91вместо того, чтобы построить еще 10 магазинов, уменьшили на 35000 число пидорашек. Оптимизация по гайдарочубайсу.
Я наблюдаю школоту противоположного толка.
Кто наблюдает больше?
Под Москвой, конец совка 1991
Совковая гонка за объемами ничуть не лучше, и 90-ые это закономерный итог строителей коммунизма
Но ведь горбачев, ельцин и путин тоже стали господами, но пои этом имеют "психологию раба" и сосут американский хуй. Как можно это делать добровольно, не будучи агентом США?
Ну правильно, ты повторяешь чубайса, 20миллионов пидорашек мешают нашей схеме "рынка"? Пусть вымирают, не вписались. Чем они отличаются от ранних большевиков с их "раскулачиванием"? Да ничем.
Не понимаю, что в твоем представлении значит "сосут американский хуй", но предположу, что тот же Путин общается с русским народом с позиции господина, а вот с представителями западных и, в последнее время еще и китайских элит, с позиции вассала.
>конец совка 1991
>всего один (один сука!) хлебный магазин
А ты думал реставрации капитализма пахнет джинсами и сникерсами?
На самом деле Раха никому не всралась.
Так по идее конце совка должен показать накопленный опыт, какие-то эффектные города, не?
Это тумба-юмбе бусы подарили, за которые он отдал сибирь китайцам?
Вообще-то население Рахи слишком велико для ей текущей экономики, нужно либо экономику увеличить либо людей сократить. Иначе будут жить как сейчас в убогости и серости.
>конце совка должен показать накопленный опыт
Конец дома в котором жили люди - это его дымящиеся руины.
>население Рахи слишком велико для ей текущей экономики
Сам подсчитал?
В каких единицах экономику измеряешь?
А это уже Тэтчер. В пидорахии нужно 10 млн для обслуживания трубы, остальные пусть сдохнут ©
>жертвы пропаганды
>Я ведь не жертва пропаганды как они
>П-правда?
>Вообще развитие в том числе науки пережает Россию на столетия
Сколько там столетий прошло с момента запуска первого человека в космос?
>их можно раздавать бесплатно
Где это у Маркса так написано?
>но шизики переиначили все
Что собственно переиначили?
К сожалению большинство - да. Люди не умеют мыслить самостоятельно и анализировать цифры и факты.
проход в хохлы с 3 поста? этого без премии оставляем.
И ведь это правда, креативные люди, учёные, исследователи, творцы - в России тупо не нужны.
Посмотри фотки из 50-60 годов и ужаснись как люди жили (не в столице, в регионе).
Дурачок, да? Пизданутый хорошенько.
>Представь себе даже когда город был уже под 40000 жителей в нем был всего один (один сука!) хлебный магазин, можешь себе представить какая там была очередь? И так каждый день.
ЗАЧЕМ ЕБАНУТЫЕ КРЕСТЬЯНЕ ПРОДАВАЛИ ЗЕМЛЮ НА КОТОРОЙ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ТОННЫ ЖРАТВЫ НА РЫЛО И ЕХАЛИ ЖИТЬ В ГОРОДА ГДЕ ОДИН ХЛЕБНЫЙ МАГАЗИН?
Ебанутый колхозник прибежал. А ты в курсе, что советский режим вас колхозников за скотов крепотных держал?
>советский режим вас колхозников за скотов крепотных держал
ТЫ ОТВЕТЬ НА ВОПРОС
ЗАЧЕМ ЕБАНУТЫЕ КРЕСТЬЯНЕ ПРОДАВАЛИ ЗЕМЛЮ НА КОТОРОЙ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ТОННЫ ЖРАТВЫ НА РЫЛО И ЕХАЛИ ЖИТЬ В ГОРОДА ГДЕ ОДИН ХЛЕБНЫЙ МАГАЗИН?
Они и не продавали, как можно продать то что им не принадлежит?
Чо там про
>Посмотри фотки из 50-60 годов
?
У тебя там чего?
Я не знаю.
Идите на разведку, капрал.
Уже принял с утра
Типикал совьет флэт
«В маленькой двухкомнатной квартире жили две семьи. В ванной на положенных досках спала домработница второй семьи. Я застал банную культуру, которая объединяла людей совершенно разных по социальному происхождению», - говорит Березин.
А как так получилось, что опережающие не могут в космос, не могут в ядерный реактор, даже гиперзвуковую ракету склепать не способны?
Что ты несешь, шизик?
Должно быть это должно свидетельствовать о чудовищных жилищных условия в СССР.
Какая жалость, что в моей памяти уже отложилось детство в 3-комнатной квартире в составе семьи из 3-х человек.
Узнал свою старую квартиру, когда был пиздюком. Только плюща на стене не было. Остальное один в один.
Кому как, кому повезло, кому не очень, могли квартиру ждать и по 10 лет. А вообще все решалось через знакомства.
Чего год стесняешься указать?
Как же ты его приложил)
Ага, все 300кк расселяли через знакомства. Ты же даже пруфа не сможешь привести ни одного.
Хдие?
>Ебанутый колхозник прибежал. А ты в курсе, что советский режим вас колхозников за скотов крепотных держал?
Ты забыл добавить беспринципные мудаки, готовые врать/распиливать/откатывать. А так да, все по делу.
Да пусть хоть хохлы с дубинками и луками бегают, или на Марс летают, как это влияет на то, что расея в днище катится?
>Кому как, кому повезло, кому не очень, могли квартиру ждать и по 10 лет. А вообще все решалось через знакомства.
Пиздабол малолетний.
У меня в подъезде, сранная дворничиха получила квартиру во времена союза.
Это ДС.
ДС блядь, без всяких знакомств.
>чьё руководство в определённый момент решило, что сосать иностранный хуй лучше
Нет. Российскому руководству вообще похуй на "наследия" и "национальные идеи". Задача одна: воровать-воровать-воровать.
Что не узнаешь скотовозку, тупный комми-скот?
Зато инженеры ждали по многу лет кек. Такой вот совочек.
>ДС блядь, без всяких знакомств
Именно. Уже в совке было заметное разделение на ДСы и прочий скот. В ДСах можно было найти товары, которых на остальную страну тупо не хватало.
А про дворничиху: дворникам давали жилье на время, пока они работают дворниками. Увольняешься - освобождай помещение, пиздуй в свои ебеня.
Всё верно. Поэтому те кто служили союзу оказались жестко наёбаны в итоге. Особенно со сбережениями в конце.
>Зато инженеры ждали по многу лет кек. Такой вот совочек.
Несколько лет ждали все, ибо очередь была.
Только квартиры были бесплатные для всех.
Если люди не желали ждать, сбребанк давал беспроцентный кредит на жильё.
Да, и тем кто ждал выделялось общежитие от работы.
>те кто служили союзу
Все население за вычетом партийной верхушки, устроившей развал совка и разворовавшей все более-менее ценное.
>Именно. Уже в совке было заметное разделение на ДСы и прочий скот. В ДСах можно было найти товары, которых на остальную страну тупо не хватало.
Я сказад про ДС, потому что это столица, а разделение во все времена были между центром и окраинами. Начиная с царей.
>А про дворничиху: дворникам давали жилье на время, пока они работают дворниками. Увольняешься - освобождай помещение, пиздуй в свои ебеня.
Ты, дебил, читать не умеешь? Ей дали квартиру, в которой она до сих пор живёт, уже внуки появились.
И так не только ей, давали квартиры всем.
Прости.
Забыл, что нельзя задавать такие вопросы.
Бесплатного ничего не бывает. Деньги на строительство квартир государство получало за счет снижения зарплат. Та же ипотека, вид сбоку.
Ну это просто человек в историю не может, а по репрессиям там сводится всё в хорошо/плохо
Бесплатного ничего не бывает. Деньги на строительство квартир государство получало за счет снижения зарплат. Та же ипотека, вид сбоку.
Какое снижение, идиот.
Почитай букварь, что такое социализм, и как обеспечиваются социальные льготы при социализме.
Это не та же ипотека, в ипотечное рабство никто не попадал, никого не выселяли с уже полученной квартиры.
>Деньги на строительство квартир государство получало за счет снижения зарплат
1960-1970-1980. Хуле, ты думаешь совок цвел-цвел и вдруг развалился? Нет, он всю дорогу не мог обеспечить свои потребности в товарах. Настолько, что уже с начала 1970-х закупал зерно у США. У США, Карл, вероятного противника, которым пугали пионеров и куда нацеливали свои ядерные ракеты.
Энивей это все стратегии распределения ресурсов, но баночек то государственный!
>Почитай букварь, что такое социализм
Социализм - первая фаза коммунистической формации. Экономическую основу социализма составляет общественная собственность на средства производства, политическую основу - власть трудящихся масс при руководящей роли рабочего класса.
Я не понял говно, ностальгируешь по совку? Специально для таких есть туры в Северную Корею, чтоб они вновь смогли окунуться в величие коммунизма и почувствовать на себе сильную руку мудрого руководителя. Еще не ездил? Почему?
Развалился он от хуёвой внешней экономии, и РФ сосёт, нефть
>1960-1970
Которые из тех пикч приходятся на эти годы?
Средняя зарплата в США в 1980 году 1050 баксов, в СССР 150 руб. Даже если брать по официальному совковому курсу бакса, в 6 раз больше. Про курс на черном рынке я и не говорю. То есть все эти "бесплатные" квартиры и прочие льготы совки имели за счет уменьшения своей зарплаты в 10 раз.
>Ты, дебил, читать не умеешь? Ей дали квартиру, в которой она до сих пор живёт, уже внуки появились. И так не только ей, давали квартиры всем.
Квартиры, точнее жилье, давали всем, да. Но только по нормам метров/чел, по которым семья из трех человек запросто могла оказаться в большой комнате коммуналки.
Никто не спорит, что совок давал квартиры. Но делал он это не очень охотно, так что жилья можно было ждать годами и десятилетиями.
Экономическая блокада же, ну, а вообще людям может быть и нормально при таком уровне жизни.
>Специально для таких есть туры в Северную Корею
Это туда что-ли?
Зачем? Там же всё постановка и потёмкинские деревни?
Население тоже сплошные потёмкины лол.
>Средняя зарплата в США в 1980 году 1050 баксов, в СССР 150 руб. Даже если брать по официальному совковому курсу бакса, в 6 раз больше. Про курс на черном рынке я и не говорю. То есть все эти "бесплатные" квартиры и прочие льготы совки имели за счет уменьшения своей зарплаты в 10 раз.
А теперь берём стоимость проживания, где например за коммунальные услуги брали меньше 5 процентов от зарплаты, не говоря уже о том что никаких ипотек кабальных не было.
Далее вычитаем затраты американца на ежемесячное медицинское страхование.
Затраты на образование.
Питание, одежда и т.д.
У среднестатистического американца после ежемесячных расходов остаётся хуй с маслом, в основном на что чтобы покушать.
Это только определение, почитай углубленно.
Ты дебил или дебил? Тебе говорят про совок, а ты доебался до пикч.
А, я понял. Эта мантра "совок был святым местом, но появился Горби - американский агент и разрушил рай на земле".
>Квартиры, точнее жилье, давали всем, да.
Сейчас такое есть? Бесплатное жилье?
>Но только по нормам метров/чел, по которым семья из трех человек запросто могла оказаться в большой комнате коммуналки.
Охуительные истории, в позднем союзе в коммуналки никого не расселяли.
>Никто не спорит, что совок давал квартиры. Но делал он это не очень охотно, так что жилья можно было ждать годами и десятилетиями.
Все зависело от того что за населенный пункт, в столицах дольше ждали, да, но не десятилетиями. В каких-нибудь ебенях давали довольно быстро ибо много строили.
Алсо сейчас-то охотно всем раздают, даже ждать не надо.
>Живешь в России
>Поехал в тур по Северной Корее
>не увидел ничего нового
А еще при Сталине hd tv не было.
>почитай углубленно
>Почитай букварь
>при этом доля возвращающихся в Россию едва достигает 30%
Чё?
Кто-то ещё и возвращается?
>У среднестатистического американца после ежемесячных расходов остаётся хуй с маслом, в основном на что чтобы покушать.
Ага, именно поэтому у советского посольства в Вашингтоне стояла день и ночь очередь желающих эмигрировать в совок.
В букваре не только определение термина, мань.
Да им вышка в хуй не уперлась. Поколение NEET же. Строить карьеру раба считается зашкваром. Wagecuck там все вот это короче форчан луркай.
>Ага, именно поэтому у советского посольства в Вашингтоне стояла день и ночь очередь желающих эмигрировать в совок.
>Обосрался
>Займемся передёргиванием
>Это только определение, почитай углубленно.
Блджад. Это определение для него было.
Ты его цитату не озеленил и я тебе вместо него написал.
>Сейчас такое есть? Бесплатное жилье?
Сейчас, если ты не заметил, рыночек, точнее его гниющий труп. В совке, если ты не партийный функционер со связями, ты принципиально не мог много зарабатывать. Только если вахтой на север и в прочие экстремальные ебеня. Почему ты не говоришь про автомобили? Которые стоили несколько тысяч при зарплате 130 руб. и которых необходимо было ждать в очереди несколько лет.
Совок грабил население, поэтому мог позволить себе раз в 10 лет дать квартиру расплодившемуся быдлу, чтобы продолжило растить новых рабов и пушечное мясо.
>Охуительные истории, в позднем союзе в коммуналки никого не расселяли.
Еще как расселяли. Коммуналки, как и все жилье, принадлежали государству. Если жилец комнаты умер, на его место подселяли нового. И всем похуй, что этот жилец мечтал об отдельном санузле. Нет, были конечно варианты. Взятки. В совке брали взятки за распределение туда, куда тебе хочется, а не туда, куда решит добрый дядя-чиновник. Принеси свою годовую зарплату - поговорим.
>Алсо сейчас-то охотно всем раздают, даже ждать не надо.
"Сейчас" в стране пиздец. Поэтому по сравнению с "сейчас" что угодно покажется золотым веком. Ипотечные кредиты по взвинченным ставкам, обезумевший рубль, еще более обезумевший диктатор, вводящий все новые и новые налоги с запретами - все это способствует покупке не жилья, а тушенки.
>Строить карьеру раба считается зашкваром.
И как они собираются решить проблему? Поголовный фриланс и возвращение к крестьянству?
>"совок был святым местом, но появился Горби - американский агент и разрушил рай на земле"
Это стереотип о стереотипе.
Стереотип в квадрате, который прописался в твоей голове.
То есть по-твоему покупать сапоги или велосипед, стоя в очереди 2-3 часа - это заебись?
>могут в космос
Могут. Просто им дешевле летать на российских ракетах, да и вообще они капитально забили на ВПК и космос после распада совочка
>ядерный реактор
Могут.
>гиперзвуковую ракету
Новость из разряда у нас есть технологии, опережающие время на 100500 лет, но мы их засекретили, чтобы америкосы не узнали
тёмный эколог в треде все в тимоти мортона
Каждый раз работает.
>ты принципиально не мог много зарабатывать
Много можно зарабатывать только там, где зарабатывают мало. Справедливо и обратное.
Богатство есть только там, где есть бедность.
>>Сейчас такое есть? Бесплатное жилье?
>Сейчас, если ты не заметил, рыночек, точнее его гниющий труп.
Да, нет не гниющий. Типичный капитализм со всеми прелестями.
>В совке, если ты не партийный функционер со связями, ты принципиально не мог много зарабатывать. Только если вахтой на север и в прочие экстремальные ебеня.
Опять наебалово, десятки профессий которые давали приличный доход.
>Почему ты не говоришь про автомобили? Которые стоили несколько тысяч при зарплате 130 руб. и которых необходимо было ждать в очереди несколько лет.
А сколько должен был стоить атвомобиль, пару сотен чтоле? Очередь была, потому что было слишком много желающих и цена доступная. Ибо государство не накручивало цены а продавало практически по себестоимости. Алсо вполне можно было купить с рук втридорога, что многие и делали.
>Совок грабил население, поэтому мог позволить себе раз в 10 лет дать квартиру расплодившемуся быдлу, чтобы продолжило растить новых рабов и пушечное мясо.
>Быдло, совок, грабил.
А ты интеллектуал.
>Охуительные истории, в позднем союзе в коммуналки никого не расселяли.
>Еще как расселяли. Коммуналки, как и все жилье, принадлежали государству. Если жилец комнаты умер, на его место подселяли нового. И всем похуй, что этот жилец мечтал об отдельном санузле.
Коммуналок с жильцами в концу союза практически не осталось.
И напомню, что в коммуналки расселяли людей из бараков, в которых они жили благодаря царскому режиму, который, как сейчас говорят, очень заботился о простом человеке.
> Нет, были конечно варианты. Взятки. В совке брали взятки за распределение туда, куда тебе хочется, а не туда, куда решит добрый дядя-чиновник. Принеси свою годовую зарплату - поговорим.
Очередные охуительные истории. Ты сам взятки давал или тебе тётя срака после бутылки сливовки поведала?
>>Алсо сейчас-то охотно всем раздают, даже ждать не надо.
>"Сейчас" в стране пиздец. Поэтому по сравнению с "сейчас" что угодно покажется золотым веком. Ипотечные кредиты по взвинченным ставкам, обезумевший рубль, еще более обезумевший диктатор, вводящий все новые и новые налоги с запретами - все это способствует покупке не жилья, а тушенки.
Очередной пиздюк разъясняющий за политику.
>если ты не партийный функционер со связями, ты принципиально не мог много зарабатывать
"Сейчас" как-то по другому? Ипотека это костыль для не можущих купить.
>Почему ты не говоришь про автомобили?
Когда их становится слишком много они превращаются в говно. В городах общественный транспорт лучше машин. Они хороши что бы ездить куда-то далеко, но не думаю что так уж много автовладельцев так делают.
>Совок грабил население
Словно "сейчас" это не так, лол.
>Поэтому по сравнению с "сейчас" что угодно покажется золотым веком.
Всё что было до Совка точно не покажется. И потом "сейчас" у нас швятой рынок, чем ты не доволен то?
В смысле решать проблему? У них как раз нет проблем пока. Пиндосия ограбила весь мир и запредельно богата. Там работая чистильщиком толчков (трейдером майнером вебкамшлюхой) на полдня можно жить лучше 99% населения Земли. Молодежь там это понимает и стремится работает на ненапряжной дноработке на полдня в лучшем случае а в оставшееся время рефлексирует и играет в игры и прочей инфантильной хуетой занимается аниме там и тд. Карьеру семью потреблядство и тд они нахуй шлют.
Глобальная наука - это где на серьёзных щах гендеры изучают и гранты пилят на всяких фейках вроде глобального потепления? Спасибо, но я как-нибудь обойдусь.
>выпадает из глобальной науки
Как можно выпасть из глобальной науки? Глобальная наука на то и глобальная, что изыскания сразу становятся известны всей планеты. Если бы у каждого государства была бы своя закрытая наука, то другой вопрос. Вот технологическая отсталость это действительно опасно.
>велосипед, стоя в очереди
Вешай лапшу кому-нить помладше.
Мы с папашей велосипед "кросс" в универмаге без всяких очередей купили.
>То есть по-твоему покупать сапоги или велосипед, стоя в очереди 2-3 часа - это заебись?
Нет, но тут два момента:
-во первых доступность, всё было действительно дёшево, именно поэтому образовывались очереди, потому что многие могли позволить.
- во-вторых очереди --решаемая проблема, и не причина разваливать социально ориентируемое государство.
О у меня такой был)
Тоже без очереди кстати взяли.
>всё было действительно дёшево
Вебмрелейтед.
>не причина разваливать социально ориентируемое государство
Социально-ориентируемые государства успешно разваливают себя сами. Это правило.
>общественные науки превращаются в инструмент идеологической обработки граждан
Прям как на Западе.
>Пиндосия ограбила весь мир и запредельно богата.
А ну теперь понятно что там за решение.
>Это правило.
Ты придумал? Феодализм то наверно развалился от переизбытка заботы о гражданах.
>Социально-ориентируемые государства успешно разваливают себя сами. Это правило.
>советский режим вас колхозников за скотов крепотных держал?
Мань, крепостной не мог никуда с земли помещика уехать, в колхоз можно было входить и выходить.
>Ты придумал?
История придумала. Сосиалисты в 20-м веке половину земного шара в свои руки получили и везде обосрались, и продолжают обсираться до сих пор. А т.к. практика - это критерий истины даже у самих сосиалистов, то очевидно, что это мертворождённый строй. А если ещё хотя бы на базовом уровне разбираться в экономике, то даже к историческому опыту обращаться не нужно, чтобы понять какое сосиализм говно даже в теории.
>Феодализм то наверно развалился от переизбытка заботы о гражданах.
Феодализм буржуи наебнули, чтобы он не мешал им бешеные даллары рубить.
>- во-вторых очереди --решаемая проблема, и не причина разваливать социально ориентируемое государство.
Следует добавить, что очереди как массовое явление на излете СССР были прямым следствием уничтожения плановой экономики,которое началось с Хрущева, а продолжилось косыгинскими реформами по переводу на хозрасчет. Реставрация капитализма как она есть.
>Феодализм буржуи наебнули, чтобы он не мешал им бешеные даллары рубить.
А социализм капиталисьы наебнули, чтобы он не мешал им бешеные даллары рубить.
>Вебмрелейтед.
Это дядя Гоблин про 60-е рассказывает.
А в 20-х вообще гражданская шла.
Мань, вне контекста можно много говна нахватать, то что товары были дешёвыми тебе в любом случае подтвердят.
Так что ты обосрался в очередной раз.
>Социально-ориентируемые государства успешно разваливают себя сами. Это правило.
Держи нас в курсе и китайцев заодно, эксперд.
А вот и формационный подход в истории подвезли.
>Это дядя Гоблин про 60-е рассказывает.
>А в 20-х вообще гражданская шла.
Между этими датами 40 лет разницы, ты уж определись.
>Мань, вне контекста можно много говна нахватать, то что товары были дешёвыми тебе в любом случае подтвердят.
Кто подтвердят? 15-летние коммунисты с ньювсача?
>Держи нас в курсе и китайцев заодно, эксперд.
У китайцев давным давно капитализм, ебобо.
>Социально-ориентируемые государства успешно разваливают себя сами.
Швеция, Норвегия, Финляндия - это социально-ориентируемые государства?
Сосиализм наебнул себя сам.
В них есть частная собственность на средства производства.
Феодализм наебнул себя сам.
Как частная собственность мешает государству быть социальным?
>половину земного шара в свои руки получили
У нигеров и демократия до сих пор не работает, как и у арабов.
>практика - это критерий истины
Франция пять раз республику пилила. Следует ли из этого что республиканская форма государства говно?
>разбираться в экономике
То тогда видно что "чистый капитализм" никому ничего не должен, без социальных благ, которые социалисты всех пастей пропихивали в глодки буржуям, капитал не стеснялся держать рабочих по 12-16 часов на работе.
>к историческому опыту
За "революцие" всегда идёт "откат". Шаг вперёд, два назад.
Но я понимаю почему ты считаешь так как считаешь. Со времён падения Римской Империи люди так и не изменились, и от слишком хорошей жизни начинают страдать хернёй. Не берусь ванговать о судьбе США, но их местный "революционеры" воюют с мельницами по сути.
Читай Маркса.
Я тебе вопрос задал, а не Марксу.
>Между этими датами 40 лет разницы, ты уж определись.
Долбоёб, я тебе про то что в разные промежутки времени были разные проблемы.
В 80-х например, никто не стоял полгода в очереди за магнитофоном.
Да и тут у тебя шебка "хитро" обрезанная, он говорит про импортный мафон, там же он говорит, что отечественный можно было купить сразу и намного дешевле.
>Кто подтвердят? 15-летние коммунисты с ньювсача?
Те кто жил в то время. Я например.
Не веришь на слово гугли, благо инфы тонны сейчас.
>У китайцев давным давно капитализм, ебобо.
Держи нас в курсе.
>Кто подтвердят? 15-летние коммунисты с ньювсача?
Я подтверждаю. Тот велосипед был достаточно дешев чтобы папаше (рабочему на бумкомбинате) не пришлось думать дважды или копить чтобы взять его когда я попросил. Это кстати в том универмаге было, что справа без окон стоит.
В 1990 г., 100-рублевой купюры нам с мамкой хватало на авиабилет от Южно-Сахалинска до Москвы и обратно.
Маркс это объясняет.
Капиталистам нужна прибыль, социалка прибыли не даёт.
>У нигеров и демократия до сих пор не работает, как и у арабов.
Так демократия нигде не работает, она говно.
>Франция пять раз республику пилила. Следует ли из этого что республиканская форма государства говно?
Нет, ведь за пределами франции была куча примеров успешных республик.
>То тогда видно что "чистый капитализм" никому ничего не должен, без социальных благ, которые социалисты всех пастей пропихивали в глодки буржуям, капитал не стеснялся держать рабочих по 12-16 часов на работе.
А сосиалисты не стеснялись держать крестьян в колхозном рабстве, изымать продовольствие, провоцируя голодоморы, гноить людей в гулагах и т.д. У всех свои грешки. Только вот при клятых буржуях на западе у рабочего условия всегда были куда лучше, чем в райском совке. Иначе бы люди не побежали всё громить в 90-х за джинсы и жвачку.
>За "революцие" всегда идёт "откат". Шаг вперёд, два назад.
Да-да, нужно просто попробовать ещё раз.
>Но я понимаю почему ты считаешь так как считаешь. Со времён падения Римской Империи люди так и не изменились, и от слишком хорошей жизни начинают страдать хернёй.
Да-да, человечество ещё просто не готово к вашим охуительным идеями.
>Капиталистам нужна прибыль, социалка прибыли не даёт
Т.е. Швеции, Норвегии и Финляндии не существует?
>Долбоёб, я тебе про то что в разные промежутки времени были разные проблемы.
У совка во все периоды были одинаковые проблемы.
>Не веришь на слово гугли, благо инфы тонны сейчас.
Эта инфа будет не в твою пользу.
>Держи нас в курсе.
Про рыночные реформы Дэн Сяопина сейчас в школе не проходят уже?
>А сосиалисты не стеснялись держать крестьян в колхозном рабстве
Колхозы не рабство.
Швеция катится в пизду, Норвегия сидит на нефтяной игле, про Финляндию не интересовался.
Рабство. Возрождение крепостного права по сути, только с заменой барина на государство.
Рабство - исторически первая и наиболее грубая форма эксплуатации, при которой раб наряду с орудиями производства являлся собственностью своего хозяина-рабовладельца.
>У совка во все периоды были одинаковые проблемы.
Не были.
>Эта инфа будет не в твою пользу.
Не будет.
>Про рыночные реформы Дэн Сяопина сейчас в школе не проходят уже?
Не знаю что там в школе, от плановой экономике в Китае не отказались.
>держать крестьян в колхозном рабстве
Рабство - исторически первая и наиболее грубая форма эксплуатации, при которой раб наряду с орудиями производства являлся собственностью своего хозяина-рабовладельца.
Маня, еще раз повторяю, крепостной не мог уехать с земли помещика. В колхозы (за исключением периода коллективизации) вступали и выходили из них по желанию.
> раб наряду с орудиями производства являлся собственностью своего хозяина-рабовладельца.
Колхозник не являлся ничей собственностью.
>Так демократия нигде не работает, она говно.
А потом кто-то говорит что Совок плохой, потому что демократии не было.
>была куча примеров успешных республик
Всю Европу попеременно шатало. Даже в Англии была реставрация монархии. Не говоря уже о том что в России, которая была "жандармом Европы" и давила подобные революции, а у самих буржуазная революция опоздала на два века.
>держать крестьян в колхозном рабстве
Ещё скажи что людей между колхозами продавил.
>изымать продовольствие
Давай ещё поговорим о том как хорошо жить на войне и после 9-ти лет войны. Хотя отнимать начала ещё РИ, такова реальность.
>провоцируя голодоморы
Хохол что ль? Так голодали все, во всём СССР и даже в мире. Вон в швятых Штатах 7~12 лямов от голода навернулось.
>гноить людей в гулагах
Да-да-да, миллиарды расстрелянных лично Сталиным.
> У всех свои грешки.
Но виноваты только сосиалисты, а капитализьм святой.
> люди не побежали всё громить в 90-х за джинсы и жвачку
В этом вся проблема, никто и не знал что такое этот комунизм. Из родвенников никто Маркса не читал, вместо него учили "историю КПСС". А знаешь почему? Потому правительву это было не выгодно, а вот капитализм был, ведь они теперь могли не тратить деньги на быдло и стать олигархами. Так и живём.
>нужно просто попробовать ещё раз
Так движется история. Та же церковь очень сильно копротивлялась приходу науки.
> человечество ещё просто не готово
Поэтому оно раз за разом проливает кучу крови за перемены, которые могут откатить в ближайшие сто лет. Пожалуй единсвенный бескровный путь к переменам, это когда власти сами переходят на новый этап. Но такого не было и никогда не будет. Даже за перемены в рыночке кому-то придётся поплатиться жизнью, сейчас это жители ближнего востока.
>Рабство. Возрождение крепостного права по сути, только с заменой барина на государство.
Конечно, именно поэтому большое количество крестьян в 20-30-е годы переехало из деревни в город на стройки социализма.
Потому что рабство.
Ну т.е. эти государства существуют и они являются социально-ориентируемыми.
>Колхозник не являлся ничей собственностью.
Солидарен. Потому и скопипастил это определение.
мимокряк
Вот это напор коммунистического манямирка.
>манямирка
Свободный рыночек то же манямирок же. Хотя Адам Смит то же не виноват, он писал свои работы когда государства были на половину аграрными, а там каждый крестьянин по сути сам себе производитель.
>Вот это напор коммунистического манямирка.
>социально-ориентируемыми
Ну если хочешь так называть любые страны с уровнем социального расслоения меньшим чем в США...
>Коммуналок с жильцами в концу союза практически не осталось
Смеюсь тебе в лицо, жертва агитации. Сам жил в коммуналке в центре ДС и половина моих знакомых были в тех же условиях.
>тебе тётя срака после бутылки сливовки поведала?
This. "Тетя срака" рассказывала, что ей через знакомых посоветовали, кому и сколько занести, если хочешь квартиру там, где хочется, а не там, где дают.
Но тебе же канал Звезда про совок рассказывает другие истории, верно? Верь им, ведь что могут знать про совок люди, жившие в совке?
>Очередной пиздюк разъясняющий за политику.
Держался-держался и таки скатился в предъявы к возрасту и переходу на личности. По делу ни слова.
Какие же вы, боты, жалкие.
>И потом "сейчас" у нас швятой рынок, чем ты не доволен то?
Сейчас у нас 70% экономики в руках государства, если ты не заметил. Государства, которое проебывает деньги миллиардами и закручивает гайки, чтобы компенсировать собственные провалы.
Если это не no future, тогда что?
>всё было действительно дёшево, именно поэтому образовывались очереди
Нет. Все было говно и даже говна не хватало. Самые эпические очереди выстраивались за редкой годнотой из-за границы (Чехословакие, Польша, Восточная Германия).
>во-вторых очереди --решаемая проблема
Очереди - не проблема, а симптом недееспособности государства, до поры компенсируемой адским трудом населения на полурабском положении.
>Смеюсь тебе в лицо, жертва агитации. Сам жил в коммуналке в центре ДС и половина моих знакомых были в тех же условиях.
Ключевое тут центр ДС, очевидно твои родители не хотели оттуда съезжать.
Повторюсь процент проживающих в коммуналках под конец союза был мизерным.
>This. "Тетя срака" рассказывала, что ей через знакомых посоветовали, кому и сколько занести, если хочешь квартиру там, где хочется, а не там, где дают.
Что и требовалось доказать. Очередные маняистории из третьих уст это раз.
ВТорое и ключеове -- "квартиру давали, но нам не нравилось где".
>Но тебе же канал Звезда про совок рассказывает другие истории, верно? Верь им, ведь что могут знать про совок люди, жившие в совке?
Я в отличие от тебя пиздюка там жил, и мне не нужно ТВ чтобы об этом рассуждать.
>Держался-держался и таки скатился в предъявы к возрасту и переходу на личности. По делу ни слова.
Там весь пост по делу, окатыш. Перепрочти если дислексией не страдаешь.
>практически
К восьмидесятым все обитатели бараков и коммуналок были расселены в квартирные дома в моём мухосранске. Поэтому там я их не застал.
Впервые увидел коммуналку когда переехали в Воронеж. Там жил мой одноклассник. Это был кажется единственный такой квартал в городе. Так и называется сейчас "общежития".
мимокряк
>Нет. Все было говно и даже говна не хватало. Самые эпические очереди выстраивались за редкой годнотой из-за границы (Чехословакие, Польша, Восточная Германия).
Ога, именно поэтому знак качества СССР по всему миру знали, в том числе и в кап. странах.
>Очереди - не проблема, а симптом недееспособности государства, до поры компенсируемой адским трудом населения на полурабском положении.
Поток бредового сознания.
Адский труд, рабы. Богато тебе пропаганды в голову залили.
>именно поэтому знак качества СССР по всему миру знали, в том числе и в кап. странах
Путать редкую годноту, отправляемую на Запад для поддержания лица и бракованный ширпотреб, продаваемый собственному населению. Просто эталонный совкоеб.
>Богато тебе пропаганды в голову залили
Ну по части пропаганды это вы большие специалисты. Бойцы невидимого фронта, хуле.
>Путать редкую годноту, отправляемую на Запад для поддержания лица и бракованный ширпотреб, продаваемый собственному населению. Просто эталонный совкоеб.
Да-да, населению только бракованное и продавали.
На двоих моих работах до сих пор советские холодильники 60-х годов прошлого века нормально работают. К примеру.
>Ну по части пропаганды это вы большие специалисты. Бойцы невидимого фронта, хуле.
Пиздюк даже не видит, что официальная власть в РФ как раз говном и поливает советское прошлое. Повсеместно.
Ну долбоёб хуле.
Нет, наверное по другой причине советские телевизоры 90% времени выполняли роль тумбочки со снятой задней крышкой, а к лодочным моторам брали несколько запасных цилиндров, поршней и прочих запчастей, чтобы можно было вернуться не на веслах.
>Нет, наверное по другой причине советские телевизоры 90% времени выполняли роль тумбочки со снятой задней крышкой
Ну у меня например не выполняли роль тумбочки, более того в конце 80-х купили телевизор, поддерживающий стандарт PAL, для просмотра видеокассет.
>а к лодочным моторам брали несколько запасных цилиндров, поршней и прочих запчастей, чтобы можно было вернуться не на веслах.
Это безусловно показатель всего производства, да.
>к лодочным моторам брали несколько запасных цилиндров, поршней и прочих запчастей
А к обуви на работу брали несколько пар подошв чтобы вернуться не босиком.
>официальная власть в РФ как раз говном и поливает советское прошлое
Официальная власть заняла крайне удобную позицию: поливать говном совок в части того, что им не выгодно (бесплатные квартиры, доступная медицина, пенсии, притеснение РПЦ - это все), зато активно присваивает победы совка (космос, наука, танки-ракеты, СВЯТОЙ ДЕНЬ СВЯТОЙ ДОЕДЫ). Сейчас перенимаем опыт репрессий и безудержной пропаганды - для чего боты и стараются вернуть совку образ России-которую-мы-потеряли.
Благо поток ненависти к своему прошлому, шедший в 90-е, поутих, и теперь можно объявить, что все это было ложью злых США - голод, сталинские репрессии, мясозакидательство в ВОВ, расстрелы демонстраций в 60-е, экономическую импотенцию застоя, разгул коррупции 80-х.
>Это безусловно показатель всего производства, да.
Это показатель культуры проектирования и производства в условиях, когда у потребителей (лесхозы, охотхозяйства, рыбнадзоры и проч.) нет альтернативы.
Глупо думать, что в остальных отраслях, кроме совсем критичных типа авиастроения, военки и атомной промышленности, было по-другому. Wait, oh shi...
Говорю же, говна тебе богато залили в голову.
>голод
Имел объективные причины. В дореволюционное время до прихода большевиков повторялся циклично. Именно большевики ликвидировали как явление.
>сталинские репрессии,
Преувеличенные масштабы, большей частью оправданы.
>мясозакидательство в ВОВ,
Наглый пиздеж, боевые потери примерно такие же как у немцев.
расстрелы демонстраций в 60-е,
Много расстреляли?
>экономическую импотенцию застоя,
В чем выражалась, кроме пропагандистских штампов. Пиздеж алсо.
>разгул коррупции 80-х.
По рассказам тёти сраки, ога.
>Wait, oh shi...
ЧТД
>Это показатель культуры проектирования и производства в условиях, когда у потребителей (лесхозы, охотхозяйства, рыбнадзоры и проч.) нет альтернативы.
Ты еще расскажи, что те же двигатели для лодок один завод на весь союз производил..
Альтернативы не было, ога.
Про холодильники я пример привёл, но его мы пропустили мимо.
К чему фото Чернобыльской АЭС.
Ну давай я притащю фотографию Фукусимы...
>Мировая практика
Охуенное оправдание. Просто охуенное.
Обтекай.
>К чему фото Чернобыльской АЭС.
>Ну давай я притащю фотографию Фукусимы...
Сучара, вы нарочно это делаете?!
>Охуенное оправдание. Просто охуенное.
Это не оправдание, это показатель того, что техногенные катастрофы случаются, вне зависимости от строя.
Какой же дебил.. Пиздец.
>Сучара, вы нарочно это делаете?!
Знатный подрыв.
Население стареет, умные уезжают, денег на науку нет. Рашка катится в жопу по всем фронтам. И дальше хуже. Хотя на западе ситуация с наукой не лучше, но они с помощью бабок завлекают умников со всего мира, создают для них определенные условия. Где деньги, там и наука. У рашки нет столько бабла, чтобы не выпадать. Даже на пенсии не хватает.
Так она только на руку, развивает внутреннее производство и отечественную индустрию. Людям может быть нормально и с шваброй в жопе, если они привыкнут.
Ну да, как иностранец, ты к сожалению сможешь посмотреть только на эту сторону, ну и на корейских гэбистов, торопливо натягивающих ширму на то, что тебе видеть не надо.
>Wait, oh shi...
Пиздюк не палится, от слова совсем.
Полиглот my ass...
Зачем тогда предлагаешь туда сгонять?
Теперь на месте этого унылого отвратительного завода, стоит жизнерадостный торговый центр небывалой красоты. Слава капиталистам!
Ну а где еще ты услышишь "товарисч вям сюда заприщщино" от суровых людей в штатском, при попытке войти не в свой туристический район, а в обычный рабочий.
А как же я увижу как страдает под кимовской тиранией несчастный корейский народ?
Совковый долбоёб вылез со своей любимой диктатурой.
Главная неправда цуиьки в том, что у нас были "гуд олд дэйз". Старых добрых деньков у нас никогда не было.
Нам предстоит их построить.
Поняшил бы кудряша.
> Три страны с охуенно свободной экономикой.
> Ррряяя, катятся в пизду!
Кстати, очень характерно для этатистских режимов, что правителя все обожествляют: ведь от его воли зависит завтрашний день.
В странах, где государство меньше по уровню вмешательства, к правителю относятся куда спокойнее: посмотрите на Швейцарию, Швецию, Тайвань: там и не думают превозносить или проклинать своего лидера, ведь его власть мала и не влияет на повседневную жизнь граждан.
Вождизм - естественная реакция на внешнюю угрозу.
>Выглядит как подобранный фейк
а вот и школьники подъехали






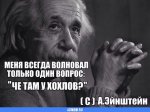

















































































































Происходящее в последние годы резко изменило паттерн молодых россиян, стремящихся связать свою жизнь с серьезной наукой. Рост числа обучающихся в зарубежных вузах превысил в 2000-2015 гг. 400%, и это не связано прямо с большей доступностью платного образования вследствие повышения благосостояния россиян: более 3/4 всех российских студентов обучаются в Европе и Северной Америке по грантовой системе, пройдя сложный отбор; при этом доля возвращающихся в Россию едва достигает 30% (в Китае — более 80%). Проблемы карьерного роста актуальны отнюдь не только в общественнонаучных дисциплинах: на начало 2010-х пришелся пик карьер тех ученых, которые в сравнительно молодом возрасте (30-40 лет) переехали в Москву или Петербург из провинциальных вузов в 1990-е годы, компенсируя миграционный отток того времени; сейчас они прочно контролируют управленческие позиции в своих институциях и не заинтересованы в конкурентах. В результате приток молодых кадров ограничен как естественными, так и искусственными причинами: средний возраст академиков и членов-корреспондентов РАН превышает сегодня 70 лет.
В результате сейчас лишь 46% российских выпускников находят работу по той специальности, по которой учились (в США — 76%), 24% вчерашних студентов удовольствуются позициями, вообще не требующие высшего образования , а масса управленцев, чиновников и судей отлично «устраиваются в жизни» даже с поддельными свидетельствами о высшем образовании. Последние стали совершенно новым словом в данной области, и, не побоюсь сказать, важнейшим российским «ноу-хау» постперестроечной эпохи. С начала 2000-х годов производство фейка в российских образовании и науке оказалось поставлено на поток. Несмотря на то, что Россия стремительно сдавала свои позиции в сфере международно признанных исследований (сегодня она занимает 15-е место по числу поданных патентных заявок, отставая от Китая в 43 раза и обеспечивая всего 0,4% их общемирового количества, а доля научных работ российских авторов в индексах цитируемости, составляющая 2,12%, не должна особо радовать, так как бoльшая ее часть обеспечивается учеными, работающими за пределами страны [публикации на русском языке занимают только 0,6% общего числа публикаций, охваченных Web of Science] ), число защищенных кандидатских и докторских диссертаций выросло более чем вдвое по сравнению с позднесоветскими показателями — причем, если судить по ученым званиям, российские парламент, правительство и региональные органы власти укомплектованы самыми образованными людьми в мире. Некоторые региональные вузы по числу подготовленных кандидатов и докторов наук оставили позади столичные университеты — но иcследования «Диссернета» указывают на то, что около пятой части всех работающих в стране научных советов имеют прямое отношение к производству фальшивых кандидатских и докторских диссертаций; при этом работа ВАК, умудряющегося порой за день присудить 400 степеней доктора наук, не дает оснований надеяться на то, что в данной сфере что-то скоро изменится. Однако ученая степень остается столь важным «аксессуаром» современного российского управленца, что одна из таких «жемчужин» есть даже в «коллекции» президента России В.Путина.
Таким образом, можно констатировать, что Россия выпадает из глобального тренда на формирование knowledge society: образование становится скорее формальностью; общественные науки превращаются в инструмент идеологической обработки граждан; передовые научные исследования ведутся все менее активно, а за оригинальные разработки выдаются фиктивные достижения. Российские технологии во многом существуют на позднесоветском «заделе» (как в космонавтике или военно-промышленном комплексе), но он близок к исчерпанию. Для попытки прорыва, вовсе не очевидно успешной, необходимы не только масштабные финансовые вливания, но и качественные научные коллективы, соответствующая мировым аналогам интеллектуальная свобода и, главное, востребованность результатов исследований как экономикой, так и политической элитой. В России, напротив, все способствует подмене знания мнениями; снижению внимания к фактам; переходу от аргументов к истерике; и формированию системы, в которой правильной может быть только точка зрения вышестоящего руководителя. Причем к этой нарастающей несовременности добавляется еще один элемент, который для развитого мира является особенно странным.